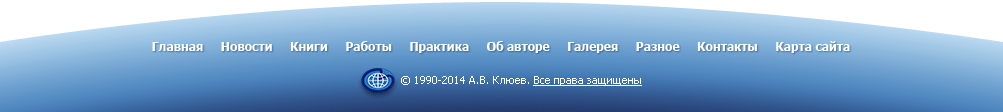О «ПОЭТИЧЕСКИХ ОПЫТАХ»
Знакомство с истинной поэзией состоялось у меня в семилетнем возрасте. Вообще-то читать я научился лет в пять и читал много классической детской литературы (в основном поэтической), а к семи годам даже умудрился прочесть «сугубо взрослые» рассказы Максима Горького, такие как «Челкаш» и «Супруги Орловы», которые произвели на меня довольно мрачное впечатление — моё детское сознание поразила жестокость и вопиющая несправедливость, творящиеся в мире людей.
18 ноября 1955 года (в день моего семилетия) две милые одинокие сёстры-старушки из дореволюционного прошлого — наши соседи по коммунальной квартире — подарили мне удивительную книгу, изданную в Казани: А. Пушкин «Избранное» с трогательной надписью — «На добрую и долгую память славному Саше от бабы Жени и Зины». С неё-то и началось моё знакомство с подлинной поэзией и с пушкинской прозой. Одолел я её целиком и с интересом, а это около шестисот страниц, — и часто обращался к Пушкину впоследствии, бережно перечитывая то, что укоренилось в неизменно свежей детской памяти. Глядя на эту книгу сегодня (она у меня чудом сохранилась) — спустя (подумать только!) 60 лет со времени получения её в качестве бесценного подарка — я неизменно переживаю душевный трепет, как это было тогда — в далёком волшебном детстве.
Свои первые поэтические строки я написал в пятом классе (в двенадцатилетнем возрасте) — и были они отнюдь не любовного содержания, хотя влюблённость уже имела место. Однажды учительница английского языка в качестве домашнего задания попросила нас перевести на русский язык простенькое стихотвореньице о весне. Как оказалось, переводы были самые разные, но ни одного, кроме моего, в настоящей поэтической форме, за что я получил похвалу от преподавателя и мой перевод был поставлен в пример остальным ученикам. Лет в пятнадцать–семнадцать были написаны отдельные (весьма несовершенные и подражательные) стихотворения, рождённые юношеской любовью, а в возрасте двадцати двух лет совершенно неожиданно мною была написана небольшая поэма «Цирк» из истории Древнего Рима времён императора Нерона.
На пороге тридцатитрёхлетия (весной 1981 года) в моей жизни начался десятилетний бурный период каждодневного обращения к поэзии. Я неожиданно почувствовал в себе огромную поэтическую силу и жгучую потребность переложить своё внутреннее состояние на поэтический язык. Это пришло как наваждение, всё во мне словно ждало этого момента. Сказочный и мучительно-сладостный мир поэзии поглотил меня целиком. Всё началось с обращения к Природе и с любовной лирики. В течение полугода стихотворная техника была основательно освоена, и во мне укрепилось чувство истинной поэтической свободы.
Однако при этом появилась своеобразная зависимость от стихосложения, которая позже обернулась сладким, обволакивающим и одновременно мучительным рабством. Я попал в ловушку, выбраться из которой было уже невозможно, да и не хотелось, — вирус собственной гениальности сделал своё дело. Писать стихи я мог в любых условиях — на работе в окружении любопытствующих сотрудников, в метро, дома в окружении раздражённых и насмехающихся родственников, идя по улице, гуляя в парке с маленькой дочерью, лёжа на диване, днём и ночью… У меня появилось множество записных книжек и маленьких блокнотиков с карандашными записями, которые я всюду носил с собою. Параллельно с чисто творческой работой я занимался изучением жизни и творчества Пушкина, Боратынского, Фета, Тютчева, Блока, Есенина, Маяковского, Пастернака, Цветаевой, Маяковского, Ахматовой и многих других мастеров поэзии.
Говорить что-либо о самом творческом процессе людям, не прочувствовавшим его собственной кожей, не имеет особого смысла, а тем, кто испытал поэтические озарения, это и так понятно. Одно могу сказать — при концентрации на выбранном предмете из пространства над головой мгновенно входит в сознание нечто вибрирующее, цельное, законченное, ритмичное, но без слов, и нужно предельно быстро (в течение долей секунды) выразить это словами без вмешательства рассудка. Если удаётся это сделать, то всё в порядке, если же не успеваешь вовремя, то с вмешательством рассудка теряется первоначальный аромат посетившего озарения и ценность строк, снижается их адекватность посетившей тебя вибрации. Отсюда, к счастью, правда, редко, мучительная неудовлетворённость написанным. Вот и вся хитрость. Научить процессу переложения вибрации в слова, естественно, невозможно — это от Бога. Вот как этот процесс я отобразил в стихотворном цикле о жизни Сергея Есенина.
Ещё не видится стихов.
Одолевают вспышки мысли.
Потом — падением оков
Предчувствия строфы нависли.
Одно мгновенье — и строка
Приподнимает над землёю.
Спеши успеть, летишь пока,
Строфу затягивать петлёю.
И ещё я открыл для себя две, на мой взгляд, очень важные вещи. Во-первых, чтобы поэзия сразу проникала в душу человека, должна непременно присутствовать магия первых строк — своеобразный вибрационный камертон, который мгновенно настраивает внутреннее существо читателя на соответствующую волну и не отпускает его до конца стихотворения. А во-вторых, стихотворные опусы не должны быть слишком длинными — шесть-восемь четверостиший (а иногда и меньше) вполне достаточно, чтобы концентрированно (без красивого словоблудия) выразить, то, что приходит к тебе в форме озарений. И тогда процесс восприятия написанного не будет утомительным для читателя.
Именно благодаря обращению к поэзии я впервые сознательно познакомился, а впоследствии сроднился с миром озарений как поэтических, так и сугубо научных, что помогало мне и в моей профессиональной деятельности. Как ни банально это звучит, но факт: вся внутренняя жизнь этого периода — в моих стихах. Что-то добавить к написанному невозможно. Могу позволить себе лишь некоторые комментарии.
Тема любви, точнее, её ускользающего движения целиком охватывает два стихотворных цикла — «Круги на воде» и «Ты — остров мой необитаемый...» (История любви). Стихотворные обращения к конкретному человеку нельзя расценивать только как акт личной любви — за конкретной личностью всегда (в случае настоящей поэзии) стоит нечто большее, невыразимое, но при этом отнюдь не безличное.
Ты увела меня навек
В края бессонниц,
В опустошительный набег
Татарских конниц,
В несостоявшуюся даль
Моих горений,
Где время — вечный календарь
Стихотворений.
***
Ты — остров мой необитаемый,
Моя и радость, и тоска,
Ты — мой покой необретаемый
И пуля — прямо у виска.
***
Ты — церковь. Я — твой прихожанин
Единственный. Уж так пришлось…
***
Тихо капает каплями Вечность,
Не торопится полночь уйти.
Тихо капает звёздами Млечность
Твоего неземного пути.
За личным «я» стоит Вселенская сила, слияние с которой сулит освобождение, и в то же время Она постоянно ускользает, приводит в раздражение, подтачивает жалкие собственные силы, но неодолимо манит и сияет своей неистощимой загадочностью. В четверостишье, названном мною «Поэзия», я дал ей такое определение:
Порой нутро дотла сжигая,
До равнодушной пустоты,
Ты в строчках нежная, живая,
Любви полна и чистоты.
В личном плане «Круги на воде» — отражение моей жизни до собственно «поэтического периода», а «Остров» — его начало и стремительное развёртывание.
Чувство собственной исключительности и гениальности буквально распирало всё моё существо, хотя внешне мне удавалось сохранять приличествующую форму. Удавалось, но не всегда.
Особо следует сказать о возлияниях Бахусу. Из невинной забавы в праздничные дни алкоголь стал превращаться в непременного спутника поэтического творчества. Не то чтобы писалось лучше в состоянии алкогольного опьянения, — в таком состоянии я никогда не писал — просто, читая написанное или рассуждая о поэзии и проблемах жизни, превращаешься в эдакого непризнанного гения, которому всё дозволено, который не способен ошибаться и всегда прав, на которого все должны обращать внимание и лелеять его. Словом, эгоистические черты личности в состоянии алкогольного опьянения предельно гипертрофируются.
Коварство действия алкоголя заключается в одном простом факте — от абсолютной свободы от груза прошлого в начальной стадии опьянения неизбежно скатываешься к депрессивному состоянию, сопровождающемуся страхами и сомнениями, вплоть до мыслей о самоубийстве. Чем больше стаж регулярного приёма алкоголя, тем глубже депрессия. У людей творческих, с утончённой психикой, депрессии, как правило, более глубокие и стойкие. Заглушить их можно только повторными приёмами спиртного, что поначалу и практикуется. Так возникает порочный круг зависимости от алкоголя, разорвать который в дальнейшем крайне трудно. Не перечесть, сколько незаурядных личностей сложило к ногам Бахуса свой талант и головы! Со временем и у меня встал вопрос «или — или» — и я одержал победу, но это было уже по окончании поэтического периода, когда я встал на Путь Сознательной Духовной Эволюции.
Поиск любви. Поначалу кажется, что этот вариант существования способен вдохнуть в человека жизненные силы и эмоции оптимизма, но оборотная сторона так называемой любви — страдание и внутренняя пустота. Меняя объекты любви, мы не в состоянии изменить закон человеческой любви и, также как в случае с алкоголем, попадаем в порочную зависимость от неё. За часы или минуты наслаждения мы платим широким спектром страданий — болью, страхом, ревностью, ненавистью, одиночеством… И ещё. Человеческая любовь имеет одно непременное свойство — рано или поздно она уходит. Древнеиндийская мудрость гласит:
С разлукой любовь уходит,
От частых встреч уходит,
От злобной болтовни людей уходит
И просто так уходит.
Поэзия, алкоголь, любовь — эдакая триада «гениальности». Раздутый донельзя эгоизм, верным признаком которого является сплошное страдание — невозможность жить не так и не иначе. Предел? Рубеж? Словом, что-то должно произойти. В душе сплошная осень.
Осень за порогом
В траурном убранстве.
Осень по дорогам,
В воздухе, в пространстве.
Осень за спиною,
Впереди, а дальше —
Где-то за стеною
Нет ни лжи, ни фальши,
Ни измен, ни краха,
Ни бесплодных бдений,
Ни конца, ни страха
Жутких сновидений,
Ни обид, ни боли…
Поэзия стала для меня своеобразным инструментом исследования человеческих чувств и состояний. Посредством поэзии мне очень легко было стать ищущей любви женщиной и коснуться тайн её души. Так появился цикл стихов «Пустая комната». Открывали его такие строки:
Вы при свечах шептали что-то,
Лицо в ладони опустив,
Кого-то звали, а кого-то
Прогнали, так и не простив.
Потом рассеянно читали
Кому-то Бальмонта стихи
И с кем-то в полночи витали,
Творя всё новые грехи.
Под утро — гаснущие свечи
Окутал струйками дымок,
Сквозняк, накинувши на плечи,
Вы с кем-то вышли за порог.
Вороны сонные галдели,
Возню затеявши чуть свет,
А вы растерянно глядели
Кому-то долго-долго вслед.
Я планировал заняться поэтическим исследованием жизни Андрея Рублёва, Льва Толстого, Александра Блока, Сергея Есенина, Никколо Паганини, Ленина. Странное сочетание имён, не правда ли? Частично удалось осуществить этот замысел. Каждому исследованию предшествовала долгая работа с разнообразными материалами. Изучались эпоха, окружение, конкретные биографические факты и творческие материалы. Тому главному, что было вынесено из проработанного, я стремился дать поэтическую интерпретацию в «скульптурной» форме. У меня всегда было ощущение, что настоящая поэзия объёмна и рельефна, а фальшивая — лежит в одной плоскости.
Работая над циклом стихотворений «Троица», посвящённых Андрею Рублёву, я всем своим существом ощущал Россию, не тогдашнюю, а вневременную.
Были разные времена —
Время доброго, время злого.
Были разные имена,
Тихо было и было Слово.
А народ, через сто потов,
Что ни туга, а дух не горбил,
К высшей радости был готов,
Как готов и к великой скорби.
Раны Руси стали моими ранами:
Что князьям до боли Родины?
Что до ига у двери?
Делят земли Воеводины —
Кто в Рязани, кто в Твери…
Прикусили совесть жалкую —
Власть да слава по нутру.
Потекла рекою Калкою
Кровь народа поутру.
Сколько власти понакуплено
За предательство, поди,
Но и веры поотрублено —
Головами пруд пруди.
Ишь замучились, поганые,
Веру-правду корчевать.
И нашлись князья желанные
Русь Святую врачевать.
И живые и сражённые
Ставят ноги в стремена.
С ними заживо сожжённые —
Люди, книги, времена…
А совсем рядом мир Андрея Рублёва и Вечное возрождение.
Русь, любовь моя! Синь с позолотою
На церковных твоих куполах
Оживает великой заботою
В безымянных твоих мастерах.
***
Мир иконы волнующе тих.
Чуден лик при свечах.
Тайну кожею ощутив,
Непомерное на плечах.
Мир иконы бездонно глубок,
Но прозрачен и чист.
Неразгаданного клубок
Откровением глаз речист.
Из неразгаданных глубин России был и Сергей Есенин. Его жизнь и поэзия со времён зрелого детства притягивали меня. Моя мама в довоенные годы была хорошо знакома с импресарио Айседоры Дункан (жены Есенина) Ильёй Ильичём Шнейдером, рассказы которого из жизни Есенина я слушал ещё в детстве в мамином изложении. Ореол загадочности, окружавший поэта, не давал покоя многим исследователям его жизни и творчества. Сколько тут было вымыслов, догадок, сплетен и прочего.
Приступая к этой работе, я прекрасно понимал, — насколько велик риск говорить поэтическим языком о Есенине. Мысль о написании цикла стихов о великом русском поэте возникла у меня, когда я узнал, что сам Есенин, незадолго до своего трагического ухода задумал поэму о Пушкине. Вся жизнь Есенина — череда стремительных творческих взлётов к вершинам любви и света и не менее стремительных «падений» в тайные глубины человеческой психики. И то, и другое — факт человеческого бытия. Человек становится жертвой этих, казалось, неразрешимых противоречий. Самоубийство Есенина есть результат трагического разлада между крайне «противоречивыми» началами человеческой психики.
В который раз внутри себя кромсаю —
Как до смешного короток наш век.
Живу, живу и вдруг — себя бросаю,
А ты приходишь — Чёрный человек.
Ну вот и всё. Чего теперь бояться?
О чём жалеть? Я вовсе не смешон.
На роль провинциального паяца
Другой — моложе — будет приглашён
Во время работы над «Есениным» чувство безысходности и движения по кругу достигло апогея, и я был готов, стоило только «поднести спичку», завершить свой земной путь. Алкоголь в любой момент мог катализировать этот процесс.
Поэтическое исследование Октябрьского переворота 1917 года и роли в нём Ленина вылилось в работу «Революция». Готовясь к написанию этой работы, я начал изучать труды Ленина, написанные им в 1917-1922 гг., и, к своему удивлению, заметил, что он выражает свои мысли ритмичным языком — и за ними стоит огромная (вибрационная, — как я теперь понимаю) сила. Ленин, безусловно, мыслил озарениями, спонтанная реализация которых (вопреки мощному сопротивлению даже в среде товарищей по партии) в период революции и первые послереволюционные годы спасла Россию от, казалось бы, неминуемой катастрофы — от колониального порабощения её хищническими странами Западной Европы, Соединёнными Штатами и милитаристской Японией. Язык Ленина поэтичен, следовательно, искренность намерений этого человека, его страстная увлечённость идеей без поиска личной выгоды не вызывали у меня сомнений. Для меня несомненно, что Божественное провидение в критический момент существования нашего государства выбрало этого гениального человека на роль спасителя России, выполнившего на коротком отрезке исторического времени эту гигантскую сверхзадачу. А сейчас Ленин, оказывается, виноват во всём, что произошло в духовно обанкротившейся Империи в 1917 году. Непонимание истинного смысла исторического процесса и роли личности в истории, как инструмента Провиденциальных сил, приводят к её искажению. Напористая политическая «проза» Ленина очень легко перетекла в стихотворную форму — и я делал это без особого труда, что доставляло мне огромную творческую радость.
Лозунг «Вся власть Советам»
На сегодня — опасен.
Там измена внутри
И рука палачей.
Политический крах их
Очевиден и ясен,
И предательски тошно
Пустозвонство речей.
На сегодня Советы —
Это просто бараны.
Привели их на бойню —
Голова под топор.
Словеса из невнятны,
Заверенья пространны,
А предательство — явно
Беспредметен и спор.
Галерею поэтических исследований завершил образ Никколо Паганини — неповторимого маэстро. Как-то в раннем детстве я по радио услышал это имя, и оно (точнее, загадочное словосочетание «Никколо Паганини») прочно вошло в моё сознание. Аромат первого детского впечатления остался у меня на всю жизнь.
Эпиграфами к поэтическому исследованию «Распятие» послужили слова Мейербера: «Там, где кончается наше воображение, начинается Паганини» и слова великого Листа о Паганини: «Он был велик. Знаем ли мы, какой ценой даётся человеку величие?» Паганини, как никто другой на земле, являл собою «мир Дьявола и Бога» в своей творческой ипостаси. Я, как мог, пытался передать это в поэтической форме. Вся жизнь Паганини — трагическая феерия Музыки и Любви. Финал его жизни был плачевен — невозможность примирения человеческими средствами полярных психологических начал привела к невыносимым страданиям души и тела.
Как холодно. Ни слава, ни богатство
Не греют обезумевшую душу.
Болезнями изъеденное тело,
Того гляди, развалится и рухнет.
Под плесневою каменной тоскою
Покоятся и молодость, и радость,
И лишь одна огромная усталость
Остаток жизни холодом сковала.
По вечерам в один и тот же час
Проклятая бессонница крадётся.
Без стука входит в двери и ведёт
Кого-нибудь из прошлого с собою…
Паганини стал мне удивительно близок и понятен, когда трагический разлад в моей душе достиг апогея. Поэзия не смогла сделать меня свободным — со временем, она стала тюрьмой. С некоторых пор ощущение гнетущего одиночества среди людей не покидало меня.
Не хочу врываться в бал
Гостем узнанным, незваным.
Не хочу, чтоб в ноги пал
Сам хозяин истуканом.
Не хочу мотаться вдрызг
По домам чужим бездомным.
Не хочу, чтоб совесть грыз
Червь сомнением бездонным.
Не хочу — ни да, ни нет
И казаться всем несчастным.
Стал мой сломанный хребет
Ко всему теперь причастным
Наступил 1990 год. По Толстому и Блоку были сделаны заготовки, но к поэтической части работы я так и не приступил. «Стихотворный период» жизни подходил к концу. Я знал, что со мною что-то должно произойти, что на смену поэтическому периоду жизни должно прийти нечто принципиально иное — неизведанное и таинственное. И это состоялось, я стал на Путь Сознательной Духовной Эволюции, по которому следую уже более четверти века. С этого времени никаких вопросов по поводу того, что надо продолжать заниматься поэзией, не было. С ней было покончено надолго… Я начал заниматься высшей формой творчества — истинно духовным творчеством — в сотворчестве с Божественной силой ваять себя в новом качестве. К этому времени поэзия, безусловно, выполнила свою задачу и ничего нового привнести в мою жизнь уже не могла, — бесконечно тиражировать сказанное однажды не имело смысла.
А спустя девять лет на свет появился «Апокриф от Иисуса», где я использовал поэтическую форму для иллюстрации Жизни и Евангельских Откровений Спасителя. Это и стало финалом моих поэтических изысканий. Любопытно, что в годы учёбы в институте в разговоре с одной из своих сокурсниц о Евангельской теме в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» я почему-то обронил фразу о желании изложить историю жизни Спасителя в стихотворной форме. Сказал ненароком и надолго «забыл» — лет на тридцать. Так что пришлось отдавать долг.
То, что предлагается вниманию читателя (исключая, разумеется, «Апокриф от Иисуса») написано человеком, сознание которого было совершенно другим, не имеющим ничего общего с нынешним, а потому — судить обо мне сегодняшнем по представленным в этой книге поэтическим опытам, не имеет смысла, — в нём отражена моя «чужая» жизнь — жизнь до времени обретения мною истинного смысла человеческого существования — до времени моего становления на Путь Сознательной Духовной Эволюции.
18 ноября 2016 года