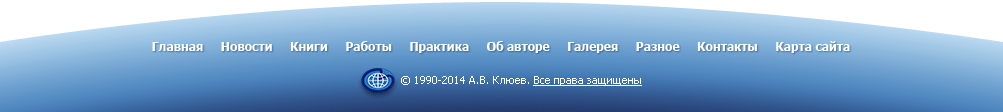Из дневника Михаила Михайловича Пришвина
26 апреля 1940 г.
[Запись этого дня приводится полностью. — Сост.]
Я был спокойно и радостно настроен, как казалось, исключительно волею Л. [Леры, Валерии Дмитриевны (урождённой Лиорко) — жены Пришвина. — Сост.]. Как только погасили огонь и я остался наедине с самим собою, началась во мне глухая тоска, связанная с мыслью о недостоверности всего моего прошлого. А моё прошлое состояло в подвиге ради поэзии. Вот теперь представил себе столько волновавшие меня раньше явления природы, и удивляюсь себе теперь — как могли они меня волновать?
Мало того, не могу вспомнить ничего написанного мною, что осталось бы теперь как прочная основа моего самоутверждения. Всё кажется теперь легкомысленным по существу и тяжким по исполнению.
Лучше уж бы родиться просто каким-нибудь гусаром, что ли! вроде В.С. Трубецкого [Владимир Сергеевич Трубецкой (1890–1937) — загорский друг писателя и товарищ по охоте. Был репрессирован, погиб в лагерях. — Сост.]. И та достоверность, что меня читают маленькие дети и учатся добру, — тоже не удовлетворяет: мне-то что самому, и разве существо моё в детях, и чем они заслужили, чтобы я отдал себя для них? Да и вовсе даже и не отдавал себя, а всё добро выходило из моей потребности писать хорошо, всё — от артиста.
Вечером с огорчением не нашёл в себе желания. Сегодня нет-нет я об этом вспоминал, а вечером опять у меня желания не было, и Л. не отвечала мне. Я хотел было это свалить на неё, но оказалось, что Л. вообще отвечает только моему желанию и что, значит, причина во мне. Ничего тут нет особенного, и зависит не от нас, и не относится прямо к делу нашей любви, но я забил через это в себе неправильную тревогу за нашу любовь и ничего Л. не сказал. Она же всё прочла в моих мыслях и потребовала от меня настоящей искренности, настоящей правды в наших отношениях… Она так долго и так страстно долбила и вдалбливала в меня эту свою мысль о необходимости полнейшей искренности, что наконец меня проняло.
Потом ночью (было это, вероятно, во сне) что-то во мне, как в земле, совершилось, и утром, когда я пробудился, вырос в душе моей какой-то чудесный цветок, и мне ясно, как это ясное морозно-белое утро, было видно: весь путь в любви мой был через сердце Л., и моё отношение к ней должно быть точно таким же простым и собранным, как стал я в это утро к самому Богу.
Так поднялся из моей ночи в это светлое утро цветок, и, чувствуя его в душе своей, я принёс из колодца свежей воды, поставил самовар, и умылся, и читал утренние молитвы так, чтобы слова приходили в мир великой гармонии через сердце Л.
С тех пор как в Загорске стало мне жить невыносимо из-за отношений в семье (это было в 1932 году), я стал усиленно искать себе где-нибудь в глуши избушку, чтоб купить её и поселиться в ней одному. Много я пересмотрел везде избушек, уединённей всех и красивей была изба в деревне Спас-на-Нерли. Только случайно я не купил её, и потом всё так обернулось, что желанная избушка Толстого превратилась в квартиру в Москве.
Предусмотрительно я выбрал себе квартиру высоко (на советские лифты нельзя ведь надеяться). [Устраивая уединённое жилище в Москве, Пришвин выбирал квартиру повыше, на шестом этаже, — «препятствие» для Ефросиньи Павловны (первой жены писателя), чтобы она, боясь пользоваться лифтом, пореже приезжала в Москву. — Сост.] Итак, я устроился и дал Павловне дарственную в Загорске, и стал жить в своей «избушке» хорошо, собирая в неё родных два-три раза в год.
И вот налетела буря и разнесла созданное мною с таким трудом уединённое жилище. Я снова очутился в деревенской избе, но со мной теперь была Л., и я понял, что не избушку я искал, а большую любовь. И ясно-ясно увидел я бедного Толстого, не знавшего любви, не понимавшего, что ему сердце нужно было, а не избушка.
Есть огонь, в котором сгорит всё недостоверное, как на Страшном Суде, и никому нет спасения от этого огня. Этот суд приходит к людям, когда они становятся друг перед другом в отношении Истины. И вот чтобы Толстому достигнуть заветной избушки, ему нужно было бы стать к другому человеку в отношении к Богу. Тогда бы сгорел Лев Толстой со всеми своими претензиями и остался бы не вздутый реформатор, а сам Толстой, как он есть.