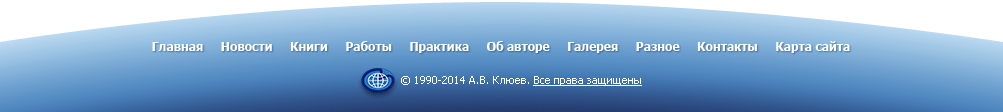Так, мне очень нравилось напевать фугу «Kyrie eleisson» («Господи, помилуй») из си-минорной мессы Баха, постоянно варьируя мотив, сочиняя на данную Бахом тему новые контрапункты (параллельно идущие в других голосах самостоятельные мелодии), новые интермедии, новый порядок вступления голосов, — фуга получилась уже другая, но не хуже, чем у Баха, остающаяся лишь в моей голове. Также любил я петь про себя отдельные места из моцартовского «Реквиема», особенно «Oro supplex ed acclinis…» («Прошу я, молящий и преклонённый, сердцем испепелённым, словно прах, — осени заботой мой конец») — этим словам соответствует переход из ля-минор в фа-мажор, между 6-м и 7-м номерами «Реквиема», постепенно на полтона понижая тональность, что создаёт ощущение одновременного погружения в бездну и упокоения. Этот фрагмент я особенно любил петь, ложась спать. Кроме музыки со словами я любил петь про себя и инструментальную музыку, ибо всё, что ни делали Бах и Моцарт — всё славит Господа, и, следовательно, может быть использовано как молитва. Кроме пения и слушания я также много их музыки играл, часто читая ноты в первый раз.
Работая таким образом, я каждое деяние своё посвящал Господу, стараясь быть предельно Ему предан и со смирением принимал всё — и громадное напряжение, и утомление тела, и то, что миром правит грех, и то, что в себе самом я видел зёрна не менее чем семи грехов, каждый из которых вполне способен к погублению души, — всё было принято мною спокойно, без возмущений, без гнева и надрывного самобичевания. Так продолжалось более полутора лет — с начала 2004 года и до конца 2005-го. В то же время меня уже никогда не покидали радость и любовь — вначале они были очень тихие, как слабо мерцающая только что зажжённая свеча во мраке, вначале освещающая лишь пространство вокруг огня, затем разгорающаяся всё более и наконец вспыхивающая так, что мрак расступается и свет проникает всюду. Так называемый «драматизм душевных конфликтов», столь ярко описанный у Клюева, меня не затронул — видно, это связанно с тем, что с детства я был внутренне целен (когда мне в 17 лет сказали, что я ничтожество — ничуть не обиделся, лишь улыбнулся). Но если «драматизм душевных конфликтов» я почти не знал, то я знал другое — острую сердечную тоску, когда из груди как будто что-то рвётся, такое, без чего полное переживание Божественного ещё невозможно, а кроме того, без чего существует ещё реальная опасность, не осмотревшись вовремя, быть пожранным грехом. Тоска по Богу не давала мне покоя, несмотря на то, что радость внутри всё возрастала.
Происходящее со мной я воспринял как знак того, что в скором времени мне надлежит родиться от Бога. То, что для рождения требуется смерть — пусть даже символическая, — меня нисколько не смущало. Смерти я никогда не боялся и был готов оставить мир в любую минуту всегда, если на то есть Воля Божья, — как в раннем детстве, так и в отрочестве и в юности, тем более что та жизнь, которую я знал, была в основном совсем не радостной, а терять в прошлом мне было нечего.
В этой связи хочу привести для примера один удивительный сон, виденный мною в конце сентября 2005 года. Мне снилась мрачная пустыня; небо было затянуто чернильно-чёрными тучами; и в этой пустыне тяжело шагал измождённый человек, одетый так, как одевались люди на Ближнем Востоке в раннехристианскую эпоху: длинная рубаха, плащ и головная повязка от солнца. Перед этим человеком внезапно оказалась глубокая огненная пропасть; она была не широка, около одного шага, но очень глубока, а на дне её горел огненный поток. Человек остановился перед ней, устрашённый, и, закрывшись рукой от ужаса, начал пятиться назад; но за его спиной, неизвестно как, возникло чёрное чудовище исполинских размеров; мне была видна лишь голова чудовища, лежащая на земле; ярко-алая пасть была наполнена острейшими зубами, величина одной лишь этой пасти была как многоэтажный дом; круглые глаза смотрели оловянно, не выдавая ни капли чувства или мысли. И это чудовище стало медленно раскрывать свою пасть всё шире и шире. Устрашённый огненной пропастью человек, не видя позади себя чудовище, пятясь, приближался к нему; но в самый последний момент, когда чудовище приготовилось пожрать человека, он оглянулся и, увидев позади себя вещь, ещё более страшную, чем пропасть, разбежавшись, прыгнул и перескочил через неё — правда, это у него получилось не слишком ловко, так что одна нога его оказалась уже на другом краю, а вторая — ещё на том, где было чудовище. Пламя при этом взметнулось из пропасти, достав до ног этого человека, но он нашёл в себе силы перескочить на другой край. Для чудовища же, несмотря на то, что его размеры многократно превышали ширину пропасти, доступную даже для человека, не было никакой возможности через пропасть перейти — в этом оно было не властно.
На этом видение моё кончилось.
Пробудившись, я истолковал его однозначно — в скором времени мне должно родиться от Духа. Огненная пропасть — само рождение, чудовище — вселенский грех, могущий погубить неокрепшую душу, а человек, бредущий по пустыне, скорей всего был подобен мне — с тем различием, что я не боялся и не отступал перед фактом рождения и смерти для прошлого; однако, вполне вероятно, что я мог быть таким же, как этот путник, если бы жил в начале новой эры на Ближнем Востоке (в Византии).
Этот сон был увиден мною в сентябре. Вся осень этого года была наполнена ощущением всевозрастающего света, радости и теплоты, как будто я ощущал дыхание какого-то иного мира, удивительного, чистого и спокойного, который был подобен Палестине в моём представлении.